19
сен
2011
сен
2011
Цвет жизни. Начало (2011)
 Перевод: Не требуется, cубтитры: отсутствуют
Перевод: Не требуется, cубтитры: отсутствуют Формат: TVRip, AVI, XviD, MP3
Страна: Россия
Режиссер: Виктор Беляков
Жанр: исторические
Продолжительность: 00:39:01
Год выпуска: 2011
Описание: Прошлое страны в нашем восприятии - черно-белое. Потому что черно-белой была кинохроника, сохранившая для нас образ ушедшего. Авторы документально-монтажного фильма решили воссоздать это прошлое во всем его многоцветье. И тоже через кинохронику - ту небольшую ее часть, которая снималась в цвете. Через воспоминания обыкновенного москвича Александра Тыренко мы видим послевоенную Москву 1940-1950-х годов, которая предстаёт перед нами во всей своей подлинности , восстановленной сегодня с уникальных цветных киноплёнок.Текст читал Лев Дуров
Видео: 720x536 (1.34:1), 25 fps, XviD MPEG-4 ~2116 kbps avg, 0.22 bit/pixel
Аудио: 48 kHz, MPEG Layer 3, 2 ch, ~128.00 kbps avg
Релиз группы:
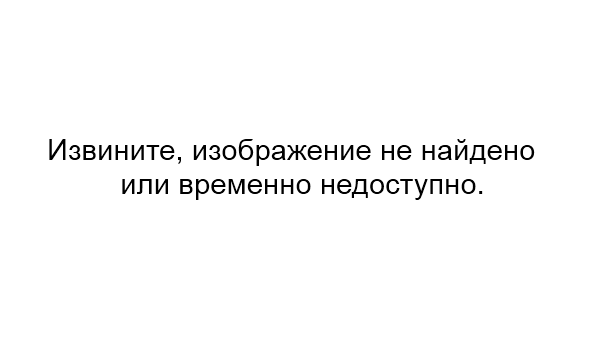
Автор рипа: fesermih
Доп.информация
Из воспоминаний Александра Сергеевича Тыренко
На траве — дрова, на дворе — война
Всю жизнь полагаю себя москвичом. Хотя рождён в рязанском крае, в семье заезжего малоросса. Во взрослой жизни я лишь однажды побывал в родном селе Шелемишеве. Это около 350 км от Москвы по дороге на Тамбов. Летом 1977-го съездил туда на велосипеде. Понятно, что кроме ностальгического захолустья, ничего не увидел. Нашлась единственная полуслепая старушенция, которая помнила моего отца и указала на пустырь, где 36 лет назад стоял наш дом.
Судьба для нас отца хранила. В апреле 1937-го, когда он был секретарём Сталинского райисполкома, начальство прослышало о его неосторожном заступничестве, которое по тем временам было смертельно опасно и для него, и для начальства. Вот и сослали его от греха и от Москвы подальше, в сельский райцентр, на партийное секретарство. Осенью 1940-го вернули в Москву, на прежнюю должность. То ли за заслуги, то ли чтоб место для очередного передвиженца освободить, — теперь уж не так важно.
В исполкоме отец отвечал, в частности, за т.н. нежилые помещения. Одно из них ему разрешили заселить своим семейством. Складской подвал пустовал, поскольку не отапливался, а по весне его затапливала грунтовая вода. Можно только догадываться, сколько труда отец положил, чтобы разгородить эту чёрную дыру и приспособить её под жильё. А потом ещё и утвердить в статусе рядовой квартиры, — чтобы прописать нас всех. Так я и стал москвичом.
Говоря по нынешнему, мы поселились в микрорайоне довоенной постройки. По Малой Семёновской, 15/17 по сей день числятся шесть кирпичных пятиэтажек и несколько засыпных двухэтажных домов. К кварталу примыкают школа (в войну — ремесленное училище, потом ПТУ, а теперь, поди, колледж), сквер и поликлиника № 64 им. Х-летия Октября. Фасады двух пятиэтажек выходят на Измайловский вал, по которому звенят трамваи. В угловом корпусе — магазин. Он и поныне там, напротив фабрики "Красная Заря". В нашем, 5-м корпусе, прямо над нами, на первом этаже находились детские ясли. Куда меня время от времени сдавали на дневное хранение. Выводили из подъезда наверх и заводили за угол, в дверь с торца дома.
В июле 1941-го, на первой волне эвакуации, отец снова отправил нас в Шелемишево. Но жить там было уже негде и не на что. К тому же опасно. Где-то рядом уже был бой с немецким десантом. В середине сентября, после ранних заморозков, мать не стала дожидаться настоящих холодов и пустилась с нами в обратный путь. Железную дорогу уже бомбили, но поезда на Москву ещё ходили. В Ряжске вагоны брали штурмом и дрались даже за места на крышах.
На вокзале встретились добрые люди, которые хорошо знали нашего отца. Они взяли для нашей матери билеты, затолкали в один вагон её, в другой вагон — старшего сына с вещами, а двух младших просто загрузили через открытое окно. В битком набитом поезде мои истошные вопли помогли семейству воссоединиться утрясанием.
В пути обошлось без бомбёжки, но в Москву никого не пускали. Поэтому в Воскресенске почти всех высадили. Мы затаились и остались. Потом упёрлись в патруль на Казанском вокзале. Самое большое, чего матери удалось добиться слезами и последними деньгами, — чтобы разрешили перебраться на Ярославский. Поперёк Каланчёвской площади. Впереди испуганно шагал носильщик. На тележке — два узла и трое малолеток. Рядом — мать их. И патрульный. Бдит, чтоб не подались в город. Иначе не сдобровать и ему, и носильщику. Чудом доехали до Загорска (ныне Сергиев Посад). Где нашей бабушке сделалось видение: дочь со всем выводком.
В ночь с 16 на 17 октября 1941 г. начался массовый исход москвичей. На Восток, по Владимирке — не пробиться. Значит, на Север, по Ярославскому. Дорога — как река в половодье. Проезжая часть запружена беженцами, вперемешку с машинами и подводами. Москву и предместья вовсю бомбят. Продвигаться приходится в кромешной темноте. Видны только синеватые огни из-под светомаскировочных фар. Навстречу, в Москву — никого и ничего.
Но вдруг волна уходящих колыхнулась вправо и стала обтекать встречную воинскую автоколонну. Кузова грузовиков зачехлены брезентом. Рессоры осели. В Москву с артиллерийского склада в Загорске везут зенитные снаряды. В первой машине рядом с водителем — майор, начальник колонны. Вообще-то, возить снаряды — не его дело. В Москве он командует всего лишь Сталинским районным ОСОАвиаХим'ом (Общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству — предтеча ДОСААФ). Но по должности входит и в районный штаб гражданской обороны. На территории района развёрнуто несколько зенитных взводов ПВО. Окопы для зениток вырыты в парках, скверах, на стадионах. Когда в Москве объявили осадное положение, то в очередной рейс за снарядами майор напросился сам.
Он знает, что вопреки всем приказам, в кабинах двух других машин — штатские: женщина и трое детей, восьми, двух с половиной и полутора лет. Перед Мытищами начальник останавливает колонну. Дальше штатским нельзя. В Москву их не пустят, задержат на первом же КПП. Все четверо забираются в кузов и заползают под брезент. За Яузой колонна поворачивает на Сокольники, для первой выгрузки. А последняя — в сквере у Хапиловки. Здесь штатским уже можно вылезти из-под брезента. Они почти у своего дома.
Вот так наш отец вывез нас из Загорска в Москву, навстречу общей волне. Видимо, полагал, что в Москве хотя и опасно, но не больше, чем в Загорске, рядом с артскладами и резервными войсками. Ничего этого я, конечно, не помню. Просто передаю рассказ старшего брата. Но как знать: может, привычка переть встречь потоку во мне не случайна?
Вскоре после зенитноснарядной Одиссеи отец надолго исчез. Причём скоропостижно: не успел даже оформить продаттестат на семью, так что она осталась вообще без средств. Как выжила — непостижимо. А он — с ополчением — попал на тульский участок обороны Москвы. При отходе немцы подожгли угольные шахты. Ополченцы гасили эти пожары. Для отца, с его туберкулёзными лёгкими, дело кончилось госпиталем и списанием в тыл — по безнадёжности. К лету 1942-го он слегка оклемался и вернулся на работу.
Примерно с этого времени я уже помню и себя, и наш военный быт. Который считал единственно возможным. Ведь иного просто не знал. По-детски жадно познавал окружающий мир и не подозревал, что он бывает без войны. Ведь из чёрной тарелки репродуктора одинаково регулярно слышались и утренний гимн, и многократное: Граждане, воздушная тревога! Я не знал, что такое или кто такие граждане. Но знал, что это — сигнал опасности для всех. Услышу его первым и сразу транслирую: Мам, опять г'аждане!
По первости мать потащилась с нами даже в недостроенное метро. Но спуск и подъём с тремя детьми по деревянным настилам в наклонном тоннеле будущей станции "Семёновская" её доконал. После этого она как-то сводила нас в убежище под магазином. Потом резонно решила, что наш подвал — сам по себе не хуже убежища. Если меня сирена заставала гуляющим во дворе, важно было заскочить в свой подъезд, пока дворник его не запер. Иначе загнали бы в убежище. Одного. А для меня это пострашней налёта. Которого я так и не видел ни разу.
Хотя налёты, конечно были. В основном, по ночам. Поэтому светомаскировка была строжайшей. Свет по тревоге отключался сам. Зажигать керосиновую коптилку, сделанную из снарядной гильзы, можно было, только опустив чёрные бумажные шторы на наши подвальные оконца. Наружные оконные стёкла во всех домах были перекрещены наклеенными бумажными лентами, — чтобы не рассыпались от ударной волны. Всё это было не зря. Рядом с нами, у самой Хапиловки, бомба попала в двухэтажный дом. Мы с дворовыми мальчишками бегали смотреть на развалины.
Сейчас на этом месте школа № 723. А тогда тех, кто уцелел, расселили. Одно семейство заняло пустующую часть нашего подвала. Отец лишился своей столярной мастерской, а мы обрели соседей. Меня это сильно расстроило. Потому что теперь негде стало играть со стружками, которые, как я считал, отец делал своим рубанком из досок специально для меня.
Чего только он для меня не делал! Кто-то выбросил остов трёхколёсного велосипеда. Я подобрал и приволок его отцу. Тот отрезал от бревна две плашки и насадил на заднюю ось. С каким восторгом я раскатывал по двору! Жаль, недолго: мой первый велик с деревянными задними колёсами скоро куда-то исчез. Только отец смог погасить вселенский скандал, который я учинил, когда пропала моя любимая, очень маленькая, чайная ложечка. Я соизволил угомониться лишь после того, как отец выковал из подручного железа некое подобие моей утраты. Когда мы пересиживали очередную тревогу при свете коптилки, отец развлекал меня тенью от своих рук на стене: тут тебе и собака, и коза, и чёртик весёленький.
Конечно, у него и без моих капризов была прорва забот. Например, он стал местным первопроходцем поневоле, когда соорудил буржуйку — железную водогрейную печку с дымовой трубой, выходящей в окно. Топили всем, что горит. Штакетником со сквера, бывшим фонарным столбом, той же стружкой. Настоящие берёзовые дрова, да и то чужие, я видел лишь иногда. Их привозил грузовой трамвай для ремесленного училища. Оно расположилось в бывшей школе и наскоро готовило станочников для военных заводов. Ремесленников приводили на разгрузку строем. Они сбрасывали дрова на прошлогоднюю траву сквера, а затем уходили тоже строем — каждый со своей ношей на плече, как с винтовкой.
У нашей буржуйки к баку был приделан сливной краник, из которого я как-то сдуру заглонул кипятку. Вот уж крику было! Громче я вопил лишь однажды, — когда бросился от кого-то прятаться под лестницу и с разбегу налетел в темноте на бухту колючей проволоки. Отец хранил её там для нашего огорода. Грядки были рядом с домом. На ограду пошли выброшенные из ясель старые железные кроватки. А для верности — та самая колючка.
Из того, что росло на наших грядках, вкуснее всего мне казалась молодая морковная ботва. К тому же, в отличие от самой морковки, ботву не надо было ни мыть, ни чистить. Из иной еды запомнились картофельные очистки. Их проворачивали через мясорубку. Из фарша лепили оладьи и жарили на воде. Голодные глаза это жарево вожделели. Но желудок, даже совсем пустой, больше одной-двух лепёх не принимал. Уж очень вкус специфический! До сих пор во мне жива дурная военная привычка не просто есть, а набрасываться на еду. Поскорее проглотить побольше, пока не распробовал, — вдруг потом больше не захочется.
Очередь за хлебом в мороз мы с братьями сторожили посменно. Палатка, в которой отоваривали хлебные карточки, была довольно далеко, на углу Малой Семёновской и Девятой Роты. Когда именно привезут хлеб, было неведомо. Просто стояли, мёрзли и ждали. Шею тянуть не требовалось. Запах свежего чёрного хлеба мы чуяли раньше, чем гужевой фургон появлялся на горизонте. Нам на карточки доставалась целая буханка (суточная норма для пятерых) и ма-аленький довесок. За него мы нещадно, по-братски дрались. Реже делили, да и то не поровну. Ни разу не донесли до дому, это точно.
Бывало и иначе. То ли нормы были разными, то ли добрый человек от себя отрывал, но раза два меня по-соседски угощали чёрным хлебом, да ещё чем-то намазанным. Просто ровесник с верхнего этажа зазывал меня в гости, а его мать кормила нас обоих. Этого мальчишку звали Волька. Владимир Углов узнал меня даже через много лет, осенью 1958-го, на студенческом кроссе в Покровском-Стрешневе.
Мне было легче, чем старшим. По детскому неразумению я не воспринимал войну как всеобщее или личное страдание. Даже слова погиб или пропал без вести не страшили, а были всего лишь привычно непонятными. Как те же граждане, бронь, отоварить жиры горохом и т.п. Мало того, война каждодневно чем-нибудь развлекала. Заслышим, например, грохот и сразу бежим глазеть на танки. Они идут колонной, гремят по булыге, а сквозь открытые передние люки видны настоящие танкисты в шлемах. Или завидим в небе серебристый дирижабль с красными звёздами и стоим, разинув рты, пока он не уплывёт из виду. Я мог неотрывно смотреть, как разматывается с автомобильной лебёдки трос привязного аэростата. Летом 1943-го, когда начались победные салюты, мы, кажется, вообще не слезали с забора: забирались повыше, чтобы видеть дальше. А сколько дурацкого счастья было, когда трамвай с автоматным треском давил патроны, которые мы раскладывали на рельсах. Даже похоронные процессии, которые шли с оркестром мимо наших домов к офицерскому кладбищу на Преображенке, мы считали всего лишь обязательным повседневным зрелищем.
Зимой так замечательно было скатываться со взгорка на краю сквера. По весне преинтересно было смотреть, как пожарные разматывают с катушки брезентовый рукав, а затем откачивают воду из нашего подвала. Я светился от гордости: ни у кого настоящего потопа дома нет, а у меня есть! А ещё я уже в три года выговаривал слово газогенератор и знал, что в войну машины ездят не на бензине, а на берёзовых чурках. У меня была настоящая пилотка, которой при желании можно было зачерпнуть из лужи. Я уже быстро бегал и мог догнать противного кота. Которого изловил в подъезде и, держа на весу за хвост, предъявил матери: Я кису принёс! Если мне давали пятачок, я мог сам сбегать через дорогу к ларьку и выпить настоящей газировки. Правда, без сиропа: мечта о газировке с сиропом сбудется лишь после войны. И вообще, мне уже целых три года.
В день рождения кто-то подарил несколько настоящих грецких орехов. Пока я на них губу раскатывал, взрослые велели поделиться с братьями. Орехов стало втрое меньше. Горе моё было безмерно. Это же мой день рожденья, при чём тут они?! С той поры при словах делиться по-братски вспоминаю своё трёхлетие.
В ту пору все, даже дети, носили военную форму . Нашими игрушками были стреляные гильзы, медные пуговицы, красные звёздочки, армейские пряжки и т.п. Но штатский, домашний быт тоже был прелюбопытен. Я знал, что электроплитку включают в сеть через жулик. Это патрон такой, у которого вместо гнезда для лампочки — две дырки для вилки. Розетки-то с началом войны были ликвидированы, — чтобы экономить электричество. Я видел, как рубят капусту сечкой в корыте. Как надевают обручи на бочку и кладут на капусту здоровенные булыжники. Как открывают зубастую пасть утюгу и закладывают туда раскалённые угольки из печки. Как набивают табаком бумажные гильзы, чтобы получились настоящие папиросы. А как здорово было растребушить на волоски смычок отцовской скрипки! Или расковырять плюшевому Мишке стеклянный глаз и посмотреть, что там внутри. Правда, за смычок мне нагорело, а осколок стекла попал в мой глаз. Зато непрерывно пополнялась незримая копилка моего опыта. Не военного, а просто житейского.
09.05.2006.А.С.Тыренко
На траве — дрова, на дворе — война
Всю жизнь полагаю себя москвичом. Хотя рождён в рязанском крае, в семье заезжего малоросса. Во взрослой жизни я лишь однажды побывал в родном селе Шелемишеве. Это около 350 км от Москвы по дороге на Тамбов. Летом 1977-го съездил туда на велосипеде. Понятно, что кроме ностальгического захолустья, ничего не увидел. Нашлась единственная полуслепая старушенция, которая помнила моего отца и указала на пустырь, где 36 лет назад стоял наш дом.
Судьба для нас отца хранила. В апреле 1937-го, когда он был секретарём Сталинского райисполкома, начальство прослышало о его неосторожном заступничестве, которое по тем временам было смертельно опасно и для него, и для начальства. Вот и сослали его от греха и от Москвы подальше, в сельский райцентр, на партийное секретарство. Осенью 1940-го вернули в Москву, на прежнюю должность. То ли за заслуги, то ли чтоб место для очередного передвиженца освободить, — теперь уж не так важно.
В исполкоме отец отвечал, в частности, за т.н. нежилые помещения. Одно из них ему разрешили заселить своим семейством. Складской подвал пустовал, поскольку не отапливался, а по весне его затапливала грунтовая вода. Можно только догадываться, сколько труда отец положил, чтобы разгородить эту чёрную дыру и приспособить её под жильё. А потом ещё и утвердить в статусе рядовой квартиры, — чтобы прописать нас всех. Так я и стал москвичом.
Говоря по нынешнему, мы поселились в микрорайоне довоенной постройки. По Малой Семёновской, 15/17 по сей день числятся шесть кирпичных пятиэтажек и несколько засыпных двухэтажных домов. К кварталу примыкают школа (в войну — ремесленное училище, потом ПТУ, а теперь, поди, колледж), сквер и поликлиника № 64 им. Х-летия Октября. Фасады двух пятиэтажек выходят на Измайловский вал, по которому звенят трамваи. В угловом корпусе — магазин. Он и поныне там, напротив фабрики "Красная Заря". В нашем, 5-м корпусе, прямо над нами, на первом этаже находились детские ясли. Куда меня время от времени сдавали на дневное хранение. Выводили из подъезда наверх и заводили за угол, в дверь с торца дома.
В июле 1941-го, на первой волне эвакуации, отец снова отправил нас в Шелемишево. Но жить там было уже негде и не на что. К тому же опасно. Где-то рядом уже был бой с немецким десантом. В середине сентября, после ранних заморозков, мать не стала дожидаться настоящих холодов и пустилась с нами в обратный путь. Железную дорогу уже бомбили, но поезда на Москву ещё ходили. В Ряжске вагоны брали штурмом и дрались даже за места на крышах.
На вокзале встретились добрые люди, которые хорошо знали нашего отца. Они взяли для нашей матери билеты, затолкали в один вагон её, в другой вагон — старшего сына с вещами, а двух младших просто загрузили через открытое окно. В битком набитом поезде мои истошные вопли помогли семейству воссоединиться утрясанием.
В пути обошлось без бомбёжки, но в Москву никого не пускали. Поэтому в Воскресенске почти всех высадили. Мы затаились и остались. Потом упёрлись в патруль на Казанском вокзале. Самое большое, чего матери удалось добиться слезами и последними деньгами, — чтобы разрешили перебраться на Ярославский. Поперёк Каланчёвской площади. Впереди испуганно шагал носильщик. На тележке — два узла и трое малолеток. Рядом — мать их. И патрульный. Бдит, чтоб не подались в город. Иначе не сдобровать и ему, и носильщику. Чудом доехали до Загорска (ныне Сергиев Посад). Где нашей бабушке сделалось видение: дочь со всем выводком.
В ночь с 16 на 17 октября 1941 г. начался массовый исход москвичей. На Восток, по Владимирке — не пробиться. Значит, на Север, по Ярославскому. Дорога — как река в половодье. Проезжая часть запружена беженцами, вперемешку с машинами и подводами. Москву и предместья вовсю бомбят. Продвигаться приходится в кромешной темноте. Видны только синеватые огни из-под светомаскировочных фар. Навстречу, в Москву — никого и ничего.
Но вдруг волна уходящих колыхнулась вправо и стала обтекать встречную воинскую автоколонну. Кузова грузовиков зачехлены брезентом. Рессоры осели. В Москву с артиллерийского склада в Загорске везут зенитные снаряды. В первой машине рядом с водителем — майор, начальник колонны. Вообще-то, возить снаряды — не его дело. В Москве он командует всего лишь Сталинским районным ОСОАвиаХим'ом (Общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству — предтеча ДОСААФ). Но по должности входит и в районный штаб гражданской обороны. На территории района развёрнуто несколько зенитных взводов ПВО. Окопы для зениток вырыты в парках, скверах, на стадионах. Когда в Москве объявили осадное положение, то в очередной рейс за снарядами майор напросился сам.
Он знает, что вопреки всем приказам, в кабинах двух других машин — штатские: женщина и трое детей, восьми, двух с половиной и полутора лет. Перед Мытищами начальник останавливает колонну. Дальше штатским нельзя. В Москву их не пустят, задержат на первом же КПП. Все четверо забираются в кузов и заползают под брезент. За Яузой колонна поворачивает на Сокольники, для первой выгрузки. А последняя — в сквере у Хапиловки. Здесь штатским уже можно вылезти из-под брезента. Они почти у своего дома.
Вот так наш отец вывез нас из Загорска в Москву, навстречу общей волне. Видимо, полагал, что в Москве хотя и опасно, но не больше, чем в Загорске, рядом с артскладами и резервными войсками. Ничего этого я, конечно, не помню. Просто передаю рассказ старшего брата. Но как знать: может, привычка переть встречь потоку во мне не случайна?
Вскоре после зенитноснарядной Одиссеи отец надолго исчез. Причём скоропостижно: не успел даже оформить продаттестат на семью, так что она осталась вообще без средств. Как выжила — непостижимо. А он — с ополчением — попал на тульский участок обороны Москвы. При отходе немцы подожгли угольные шахты. Ополченцы гасили эти пожары. Для отца, с его туберкулёзными лёгкими, дело кончилось госпиталем и списанием в тыл — по безнадёжности. К лету 1942-го он слегка оклемался и вернулся на работу.
Примерно с этого времени я уже помню и себя, и наш военный быт. Который считал единственно возможным. Ведь иного просто не знал. По-детски жадно познавал окружающий мир и не подозревал, что он бывает без войны. Ведь из чёрной тарелки репродуктора одинаково регулярно слышались и утренний гимн, и многократное: Граждане, воздушная тревога! Я не знал, что такое или кто такие граждане. Но знал, что это — сигнал опасности для всех. Услышу его первым и сразу транслирую: Мам, опять г'аждане!
По первости мать потащилась с нами даже в недостроенное метро. Но спуск и подъём с тремя детьми по деревянным настилам в наклонном тоннеле будущей станции "Семёновская" её доконал. После этого она как-то сводила нас в убежище под магазином. Потом резонно решила, что наш подвал — сам по себе не хуже убежища. Если меня сирена заставала гуляющим во дворе, важно было заскочить в свой подъезд, пока дворник его не запер. Иначе загнали бы в убежище. Одного. А для меня это пострашней налёта. Которого я так и не видел ни разу.
Хотя налёты, конечно были. В основном, по ночам. Поэтому светомаскировка была строжайшей. Свет по тревоге отключался сам. Зажигать керосиновую коптилку, сделанную из снарядной гильзы, можно было, только опустив чёрные бумажные шторы на наши подвальные оконца. Наружные оконные стёкла во всех домах были перекрещены наклеенными бумажными лентами, — чтобы не рассыпались от ударной волны. Всё это было не зря. Рядом с нами, у самой Хапиловки, бомба попала в двухэтажный дом. Мы с дворовыми мальчишками бегали смотреть на развалины.
Сейчас на этом месте школа № 723. А тогда тех, кто уцелел, расселили. Одно семейство заняло пустующую часть нашего подвала. Отец лишился своей столярной мастерской, а мы обрели соседей. Меня это сильно расстроило. Потому что теперь негде стало играть со стружками, которые, как я считал, отец делал своим рубанком из досок специально для меня.
Чего только он для меня не делал! Кто-то выбросил остов трёхколёсного велосипеда. Я подобрал и приволок его отцу. Тот отрезал от бревна две плашки и насадил на заднюю ось. С каким восторгом я раскатывал по двору! Жаль, недолго: мой первый велик с деревянными задними колёсами скоро куда-то исчез. Только отец смог погасить вселенский скандал, который я учинил, когда пропала моя любимая, очень маленькая, чайная ложечка. Я соизволил угомониться лишь после того, как отец выковал из подручного железа некое подобие моей утраты. Когда мы пересиживали очередную тревогу при свете коптилки, отец развлекал меня тенью от своих рук на стене: тут тебе и собака, и коза, и чёртик весёленький.
Конечно, у него и без моих капризов была прорва забот. Например, он стал местным первопроходцем поневоле, когда соорудил буржуйку — железную водогрейную печку с дымовой трубой, выходящей в окно. Топили всем, что горит. Штакетником со сквера, бывшим фонарным столбом, той же стружкой. Настоящие берёзовые дрова, да и то чужие, я видел лишь иногда. Их привозил грузовой трамвай для ремесленного училища. Оно расположилось в бывшей школе и наскоро готовило станочников для военных заводов. Ремесленников приводили на разгрузку строем. Они сбрасывали дрова на прошлогоднюю траву сквера, а затем уходили тоже строем — каждый со своей ношей на плече, как с винтовкой.
У нашей буржуйки к баку был приделан сливной краник, из которого я как-то сдуру заглонул кипятку. Вот уж крику было! Громче я вопил лишь однажды, — когда бросился от кого-то прятаться под лестницу и с разбегу налетел в темноте на бухту колючей проволоки. Отец хранил её там для нашего огорода. Грядки были рядом с домом. На ограду пошли выброшенные из ясель старые железные кроватки. А для верности — та самая колючка.
Из того, что росло на наших грядках, вкуснее всего мне казалась молодая морковная ботва. К тому же, в отличие от самой морковки, ботву не надо было ни мыть, ни чистить. Из иной еды запомнились картофельные очистки. Их проворачивали через мясорубку. Из фарша лепили оладьи и жарили на воде. Голодные глаза это жарево вожделели. Но желудок, даже совсем пустой, больше одной-двух лепёх не принимал. Уж очень вкус специфический! До сих пор во мне жива дурная военная привычка не просто есть, а набрасываться на еду. Поскорее проглотить побольше, пока не распробовал, — вдруг потом больше не захочется.
Очередь за хлебом в мороз мы с братьями сторожили посменно. Палатка, в которой отоваривали хлебные карточки, была довольно далеко, на углу Малой Семёновской и Девятой Роты. Когда именно привезут хлеб, было неведомо. Просто стояли, мёрзли и ждали. Шею тянуть не требовалось. Запах свежего чёрного хлеба мы чуяли раньше, чем гужевой фургон появлялся на горизонте. Нам на карточки доставалась целая буханка (суточная норма для пятерых) и ма-аленький довесок. За него мы нещадно, по-братски дрались. Реже делили, да и то не поровну. Ни разу не донесли до дому, это точно.
Бывало и иначе. То ли нормы были разными, то ли добрый человек от себя отрывал, но раза два меня по-соседски угощали чёрным хлебом, да ещё чем-то намазанным. Просто ровесник с верхнего этажа зазывал меня в гости, а его мать кормила нас обоих. Этого мальчишку звали Волька. Владимир Углов узнал меня даже через много лет, осенью 1958-го, на студенческом кроссе в Покровском-Стрешневе.
Мне было легче, чем старшим. По детскому неразумению я не воспринимал войну как всеобщее или личное страдание. Даже слова погиб или пропал без вести не страшили, а были всего лишь привычно непонятными. Как те же граждане, бронь, отоварить жиры горохом и т.п. Мало того, война каждодневно чем-нибудь развлекала. Заслышим, например, грохот и сразу бежим глазеть на танки. Они идут колонной, гремят по булыге, а сквозь открытые передние люки видны настоящие танкисты в шлемах. Или завидим в небе серебристый дирижабль с красными звёздами и стоим, разинув рты, пока он не уплывёт из виду. Я мог неотрывно смотреть, как разматывается с автомобильной лебёдки трос привязного аэростата. Летом 1943-го, когда начались победные салюты, мы, кажется, вообще не слезали с забора: забирались повыше, чтобы видеть дальше. А сколько дурацкого счастья было, когда трамвай с автоматным треском давил патроны, которые мы раскладывали на рельсах. Даже похоронные процессии, которые шли с оркестром мимо наших домов к офицерскому кладбищу на Преображенке, мы считали всего лишь обязательным повседневным зрелищем.
Зимой так замечательно было скатываться со взгорка на краю сквера. По весне преинтересно было смотреть, как пожарные разматывают с катушки брезентовый рукав, а затем откачивают воду из нашего подвала. Я светился от гордости: ни у кого настоящего потопа дома нет, а у меня есть! А ещё я уже в три года выговаривал слово газогенератор и знал, что в войну машины ездят не на бензине, а на берёзовых чурках. У меня была настоящая пилотка, которой при желании можно было зачерпнуть из лужи. Я уже быстро бегал и мог догнать противного кота. Которого изловил в подъезде и, держа на весу за хвост, предъявил матери: Я кису принёс! Если мне давали пятачок, я мог сам сбегать через дорогу к ларьку и выпить настоящей газировки. Правда, без сиропа: мечта о газировке с сиропом сбудется лишь после войны. И вообще, мне уже целых три года.
В день рождения кто-то подарил несколько настоящих грецких орехов. Пока я на них губу раскатывал, взрослые велели поделиться с братьями. Орехов стало втрое меньше. Горе моё было безмерно. Это же мой день рожденья, при чём тут они?! С той поры при словах делиться по-братски вспоминаю своё трёхлетие.
В ту пору все, даже дети, носили военную форму . Нашими игрушками были стреляные гильзы, медные пуговицы, красные звёздочки, армейские пряжки и т.п. Но штатский, домашний быт тоже был прелюбопытен. Я знал, что электроплитку включают в сеть через жулик. Это патрон такой, у которого вместо гнезда для лампочки — две дырки для вилки. Розетки-то с началом войны были ликвидированы, — чтобы экономить электричество. Я видел, как рубят капусту сечкой в корыте. Как надевают обручи на бочку и кладут на капусту здоровенные булыжники. Как открывают зубастую пасть утюгу и закладывают туда раскалённые угольки из печки. Как набивают табаком бумажные гильзы, чтобы получились настоящие папиросы. А как здорово было растребушить на волоски смычок отцовской скрипки! Или расковырять плюшевому Мишке стеклянный глаз и посмотреть, что там внутри. Правда, за смычок мне нагорело, а осколок стекла попал в мой глаз. Зато непрерывно пополнялась незримая копилка моего опыта. Не военного, а просто житейского.
09.05.2006.А.С.Тыренко
Похожие материалы
1.4 GB
 Цвет неба (2006)
Цвет неба (2006)278.0 MB
 Цвет любви (2004)
Цвет любви (2004)287.5 MB
 Цвет белого снега (1970)
Цвет белого снега (1970) Главная
Главная Видео
Видео Музыка
Музыка Программы
Программы Игры
Игры Книги
Книги Зарубежные фильмы
Зарубежные фильмы Классика мирового кино
Классика мирового кино Наше кино
Наше кино Советское кино
Советское кино HD/BD и DVD
HD/BD и DVD Зарубежные сериалы
Зарубежные сериалы Отечественные сериалы
Отечественные сериалы Мультфильмы
Мультфильмы Советские мультфильмы
Советские мультфильмы Аниме
Аниме Документальное кино
Документальное кино Приколы и юмор
Приколы и юмор Обучающие видеоуроки
Обучающие видеоуроки Мобильное видео
Мобильное видео